В поисках интересных свидетельств о жизни Минска в разные века CityDog.by нашел воспоминания русского офицера-чиновника о нашем городе образца 1864 года.
Николай Ксенофонтович Полевой – сын известного русского журналиста Ксенофонта Полевого. Офицер, мировой посредник, председатель Бобруйской поверочной комиссии и съезда мировых посредников, председатель Калишской комиссии по крестьянским делам.
Воспоминания Полевого были опубликованы в журнале «Русская старина» спустя 50 лет после визита чиновника в Минск. Как и Вильня, наш город в те годы переживал не лучшие времена: только что было жестоко подавлено восстание, и уцелевшие горожане-активисты пытались выражать хоть какие-то протесты. Например, в костелах исполняли патриотические гимны, а минчанки в знак траура по порабощенной Родине ходили в черном. Весь так называемый «Северо-Западный край» будоражило от громких политических дел: участники восстания ссылались в Сибирь, а Минск, как и другие белорусские города, ожидала беспощадная русификация.
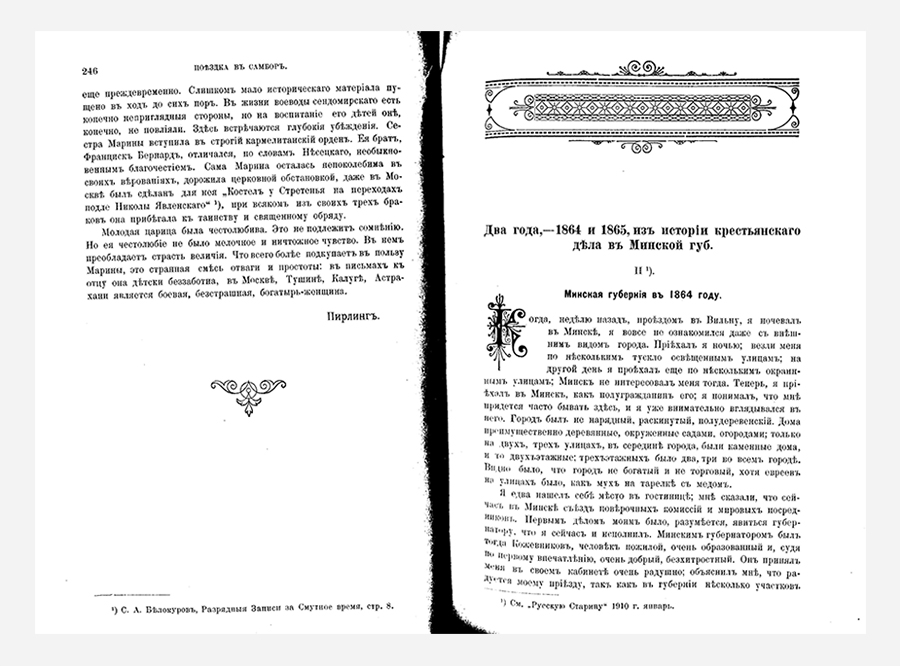 Назначение Полевого в Минскую губернию посредником – яркий пример политической русификации нашего края: царские власти жестко зачищали всю местную вертикаль, в которой служили белорусы и поляки. Теперь их места должны были занять русские.
Назначение Полевого в Минскую губернию посредником – яркий пример политической русификации нашего края: царские власти жестко зачищали всю местную вертикаль, в которой служили белорусы и поляки. Теперь их места должны были занять русские.
О том, каким увидел Николай Полевой Северо-Западный край, Вильню и Минск, можно прочитать в его воспоминаниях. Мы публикуем отрывки из них.
«Я, русский офицер, почувствовал враждебность этих людей»
…В конце января 1864 года я выехал из Вяземскаго уезда в Вильну. В то время не было и помину о железной дороге в этом направлении. Я ехал на Смоленск, Оршу, Могилев, Минск в Вильну, на почтовых лошадях, в санях; санный путь был прекрасный. Тотчас за Смоленском, как только я въехал в Могилевскую губернию, я попал в новый мир. Явились поляки, белорусы, евреи с их чуждыми мне языком, нравами и враждебным ко всему русскому настроением. Я, русский гвардейский офицер, своей формой обнаруживал свою национальность и тотчас почувствовал злобное настроение, враждебность всех этих людей. Они умышленно говорили со мною по-польски, хотя все прекрасно говорили и понимали русский язык.
Они затрудняли меня во всем: в покупке хлеба, баранок, в счете денег, считая на злоты и гроши; a часто отказывали и вовсе в чем можно, говоря: «Не разумем!» Где лаской, где окриком или шуткой, я кое-как устраивался и подвигался быстро. Уже с самой границы Смоленской губернии заметно было военное положение края. В местечках видны были войска; на почтовой дороге стояли местами заставы. Здесь и на станциях проверяли мою подорожную. Но когда я въехал в Минскую губернию, военное положение оказалось во всей своей силе и строгости. На заставе в городе Борисове меня остановил военный караул; военный писарь забрал мою подорожную и объяснил мне, что я должен ожидать, пока он отнесет мою подорожную для поверки и записи военному начальнику, и что я могу ехать дальше только когда получу разрешение военного начальника Борисовского уезда.
<...>
Поздним вечером я приехал в Минск и остановился там ночевать. Я предполагал, что в таком большом центре, как губернский город Минск, строгости военного положения еще сильнее, чем в маленьком городке Борисове.
Оказалось, что тут дело было поставлено совершенно иначе. Как только я проснулся, денщик мой рассказал мне, что какой-то еврей, фактор, предлагает за 50 копеек устроить мне исполнение всех необходимых формальностей; что мне не надо будет являться ни военному губернатору, ни даже в его канцелярию; он брался все устроить. Новичок Западного края, я удивился этому предложению; позвал фактора и, выслушав его уверения, отдал ему свою подорожную. Не прошло и часу, как торжествующий еврей вручил мне мою подорожную, с подписями всех, кому следовало явить ее, и с особым разрешением на свободный проезд до Вильни. Через полчаса я выехал из Минска.
<...>
На другой день я въезжал утром в Вильну. Первое впечатление этого города было тягостное. Вильна, Западный край, Польша со всеми их тенденциями и полонизмом были мне совершенно незнакомы. Я родился в Москве, учился и служил в Петербурге; посещал Малороссию, Финляндию, Прибалтийские губернии, но никогда не бывал в польской стороне. Чем-то чуждым, неприветливым повеяло на меня от Вильны.
<...>
Сидя в санях, я перебирал впечатления нескольких дней, проведенных в Вильне; несимпатичные, тяжелые воспоминания вывез я оттуда. Не понравился мне самый город; груб, не цивилизован показался мне весь быт его. Коленопреклоненная демонстрация богомольцев y Острой Брамы, в сущности думающих не о молитве, a злобно вопиющих, чтобы злить тирана, не решающегося разогнать их, и прохожих русских; вспомнились мне несчастные арестанты на улицах; рассказ о женском аристократическом монастыре, устроившем y себя притон повстанцев и заговорщиков; жалкие лицедеи, за деньги отплясывающие в это самое время в собрании, жадно пожирающие ужин, предложенный им ненавистными им москалями; польки, с бокалами шампанского в руках, публично, чуть не в объятиях тех же ненавистных им людей! Лживый, гадкий, отвратительный мир! Осудил я и свою собственную речь, и роль легкомысленных русских на этом пиру!
<...>
«Видно, что Минск не богатый и не торговый»
Приехал (в Минск. – Ред.) я ночью; везли меня по нескольким тускло освещенным улицам; на другой день я проехал еще по нескольким окраинным улицам; Минск не интересовал меня тогда. Теперь я приехал в Минск как полугражданин его; я понимал, что мне придется часто бывать здесь, и я уже внимательно вглядывался в него. Город был не нарядный, раскинутый, полудеревенский. Дома преимущественно деревянные, окруженные садами, огородами; только на двух, трех улицах, в середине города, были каменные дома, и то двухэтажные; трехэтажных было два, три во всем городе. Видно было, что город не богатый и не торговый, хотя евреев на улицах было как мух на тарелке с медом.
Я едва нашел себе место в гостинице; мне сказали, что сейчас в Минске съезд поверочных комиссий и мировых посредников. Первым делом моим было, разумеется, явиться губернатору, что я сейчас и исполнил. Минским губернатором был тогда Кожевников, человек пожилой, очень образованный и, судя первому впечатлению, очень добрый, бесхитростный. Он принял меня в своем кабинете очень радушно; объяснил мне, что радуется моему приезду, так как в губернии несколько участков без мировых посредников, и тем более приятно ему получить не новичка в крестьянском деле, a опытного, русского мирового посредника.
 Андрей Львович Кожевников, сам бывший декабрист, во время и после восстания 1863 года руководил Минском и пытался задавить всякое инакомыслие.
Андрей Львович Кожевников, сам бывший декабрист, во время и после восстания 1863 года руководил Минском и пытался задавить всякое инакомыслие.
Он сказал мне, что теперь собрал в Минске почти весь личный состав крестьянских учреждений Минской губерни, чтобы обсудить с ними результаты работ поверочных комиссий в пришедшем году, вникнуть во все встреченные затруднения и по возможности разрешить их.
<...>
В 4 часа я возвратился в губернаторский дом, к обеду. В 1864 году губернатор жил в том самом доме, который минский губернатор занимал теперь. Это прекрасное двухэтажное здание, рядом с католическим соборным костелом. Костел этот и дом принадлежали иезуитам, a по изгнании их дом был отобран в казну. Комнат в нем много, комнаты большие, светлые; одним словом – помещение роскошное. Семейство y Кожевникова было большое, и мы сели за стол, кажется, человек двенадцать; причем я был единственный посторонний.

Жена губернатора была женщина образованная, привыкшая к приемам и радушная хозяйка. Разговор за столом шел преимущественно о только что пережитых ими в Минске тревогах повстания: говорили без злобы. При прощании губернаторша просила меня навещать ее, сказав, что всегда рада видеть y себя образованных людей.
<...>
Внешних развлечений в Минске не было никаких. Существовал, правда, какой-то театр; но помещался в частном доме; зала, сцены были небольшие; убранство бедное, грязноватое; освещение скудное. Я раз пошел посмотреть представление. Труппа была сборная, из актеров распуганных повстаньем польских трупп, которые играли теперь по-русски, русские пьесы, с отчаянным польским акцентом, примешивая бессознательно польские слова. Но главная беда была в том, что актеры были ниже посредственности. Две актрисы, молоденькие, довольно красивые, увлекали невзыскательную публику; ее было немного. Я больше не пошел в этот театр.
Было, впрочем, еще одно крупное развлечение: на масленице губернатор Кожевников сделал у себя бал. Прекрасное, просторное помещение губернаторского дома представляло к тому все удобства. Приглашено было все минское русское общество: в том числе все члены поверочных комиссий и мировые посредники. Собралось очень большое общество; было много дам, были нарядные туалеты, были и красивые дамы. Особенно отличались красотою и роскошными нарядами две супруги командиров полков, стоявших гарнизоном в Минске, г-жи Корево и Полторацкая.
Я не принимал участия в танцах, так как общество было мне незнакомое. В боковых комнатах играли в карты; был ужин; бал во всей форме, и все очень хорошо, нарядно, но семейно, неофициально.
<...>
Я слушал все это со вниманием и с своей стороны рассказал Ратчу (начальник артиллерии Виленского военного округа в 1864 году. – Ред.) тяжелое впечатление, произведенное на меня пребыванием моим в Вильне; как меня поразили лицемерие, всеобщая ложь, легкомыслие. Он признал существование этого зла, я сказал, что Муравьев действительно плохо окружен, и это может погубить его. Слишком мало около него честных, трудолюбивых людей, и слишком много карьеристов, льстецов.
Рассказал он мне и почему путешествует в почтовой бричке. Он выехал из Вильны в удобной, легкой коляске, которую нарочно купил для предстоящих разъездов. Между Вильною и Минском коляска несколько раз ломалась и оказалась такою непрочною, что он вынужден был бросить ее в Минске и поручил еврею, хозяину гостиницы, в которой остановился, заарендовать или купить какой-нибудь экипаж для дальнейшего путешествия. Тот представил ему прекрасную коляску, а на вопрос о цене ответил, что владелец коляски сам просит принять этот знак уважения; но генерал может сделать пану *** большое одолжение, если скажет Муравьеву, что брат пана несправедливо арестован и проч. Ратч в ответ на это велел подать себе почтовую бричку и так приехал сюда. В Бобруйске артиллеристы разыскали ему какой-то экипаж.
Источник: Полевой Н. Два года – 1864 и 1865, из истории крестьянского дела в Минской губ. // Русская старина, 1910. – Т. 141. – № 1. – С. 47-68; № 2. – С. 247-270.
Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.
 Фото: архив CityDog.by.
Фото: архив CityDog.by.






















соглашусь)
во-вторых, можете сколь угодно спорить с классиком. но его слова, а ваши вошли в мировую культуру. кто такие поляки в большинстве своей я тоже догадываюсь, т.к. имею честь вести бизнес в Польше 15 лет)
- Это польский.
отличите чешский от словацкого?
А еще это наречие потому, что только с русскими вы на нем и пытаетесь говорить, а между собой почему-ту переходите на вражЫскый.
Что за шовинистические бредни? У меня есть друзья, с которыми мне приятно поговорить на роднай мове. И в принципе я рос в такой среде, где использовалась только она. Украинцы, кстати, реагируют абсолютно адекватно и понимают без подготовки, в отличие от русских.
Наречием старорусского языка белорусский язык быть не может по той причине, что никакого старорусского языка не существовало. Все ранние документы написаны на церковнославянском, который придумал грек Мефодий на основании македонского диалекта болгарского. Очевидно этот язык не мог быть разговорным за тысячи километров от балканских гор.
И слава Богу, современная наука имеет достаточное количество средств позволяющих оценить, что является языком, а что не совсем. Для неучей порой бывает откровением тот факт, что коэффициент лингвистического сходства между французским и итальянским языками (я полагаю это разные языки, а не наречия?) больше, чем между белорусским и русским.
Если с украинцем па беларускi заговорить, он тоже обматерит?
Или пацалует?
Они просто польским фантам навешали лещей, что бы те про великую польшу тут больше не пели и все.
Максим Горький. СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ
Мои знакомые поляки чудесные люди!
А вот это вышеперечисленное из каких источников цитируется? Или это аффтар как бэ логично делает вывод в начале повествования?))
А про Вильно сказано прямо в точку! У меня сегодня точно таике же чувства возникают, когда туда приезжаю!